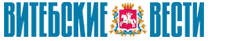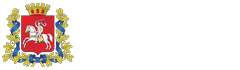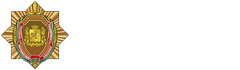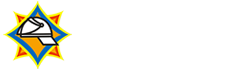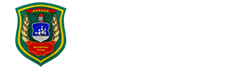Александру Растопчину было 13 лет на момент начала Великой Отечественной. Когда принимал присягу на верность Родине, не исполнилось и 17. Служил в 245-й истребительной авиационной дивизии. После 9 мая 1945 года был отправлен на Дальний Восток, где был задействован в Маньчжурской операции во время Советско-японской войны. Окончил Иркутское военно-авиационное, а затем Рижское высшее инженерно-авиационное военное училище. Служил в Полоцке в ракетных войсках стратегического назначения. После увольнения в запас в звании полковника-инженера преподавал в Полоцком торгово-технологическом техникуме. Награжден орденом Отечественной войны || степени и другими боевыми наградами.
В свои 97 лет полочанин Александр Растопчин сохраняет жизнерадостность, открыт к общению, по мере сил участвует в общественной жизни города, давно ставшего ему родным.

Учитывая биографию заслуженного и уважаемого человека, интересно было узнать его взгляды на прошлое и настоящее.
– Вас несколько раз призывали: сначала в 1943-м, потом в 1944 году. Чего больше всего боялись в свои 17 лет, Александр Филиппович?
– Боялись? Что вы, какой страх?! Мы, молодые, боялись только, что в армию не возьмут! Рвались в бой. А пока ждали своей очереди, занимались контрпропагандой, уничтожали газеты, которые фашисты два раза в месяц сбрасывали на нашу территорию, ее издавала группа предателей. Для нас, пионеров и комсомольцев, было такое задание – собирать по окрестностям это издание, приносить в сельсовет, где его и сжигали. В 1943 году накануне кровопролитной битвы под Курском был объявлен призыв учащихся 8-х и 9-х классов. Нас направили на двухнедельные курсы, где мы осваивали программу подготовки бойцов пехоты. После знаменитой победы на Курской дуге отпустили домой. Справились без нас. В следующем году, когда готовилась операция «Багратион», был объявлен дополнительный призыв учащихся 9-х классов. Мы снова прошли обучение. Но резерв не потребовался, и нас снова отпустили домой.
– Было ли досадно, что время, когда у каждого молодого человека появляются осознанные мечты и заветные цели, было отнято войной?
– Страна была в страшной опасности, и досадовать нам было некогда. Война продиктовала нам свой диктант на тему «Надо Родине помогать!». Вся мужская работа легла на наши плечи. И мы на моей родине, на Рязанщине, пахали, косили, бороновали, молотили... Надо было кормить народ и армию. На 10-классников в 1944-м ввели бронь, предполагая, что им надо продолжать учебу в институтах, стране нужны были квалифицированные специалисты, но в октябре того года я заявил в военкомате, что от брони отказываюсь. Отказываешься – иди воевать! Чего я и добивался.

– Александр Филиппович, вы так хотели бить фашистов... В чем видите свой вклад в Великую Победу?
– Нас, мальчишек, отправили в ШМАС – школу младших авиационных специалистов. После обучения и практики обслуживали на аэродроме самолеты, заправляли, готовили их к бомбардировке, к десантированию, доставке оружия. Ответственное дело, и относились мы к нему соответственно. Одно только то, что все наши самолеты, за техническое состояние которых мы отвечали, без потерь и аварий долетели из Клина до Читинской области, до Дальнего Востока, успешно выполняли все поставленные задачи, говорит о многом. Здесь я уже не только готовил самолеты к вылетам, но и сам на Ли-2 участвовал в десантированиях, в том числе разведчиков в тыл врага. Наша дивизия за участие во взятии Порт-Артура и освобождении Маньчжурии получила почетное наименование «Порт-Артурская».
– Каким вам помнится 9 мая 1945-го?
– Ночь я отстоял в карауле и уснул только после того, как дневальный побежал по этажам с вестью о Победе. Винтовки наши уже стояли в пирамиде, стрелять в воздух не довелось. На митинге офицеры объявили нам о долгожданной Победе над ненавистным врагом. Воздухом этого предстоящего события мы дышали уже с конца апреля, когда наши войска вошли на территорию Берлина.

– Так сложилось, что вы в свое время заменили внуку отца. Что считаете главным в воспитании мальчиков, будущих мужчин?
– Во-первых, они должны быть честными и сильными. Во-вторых, очень важно, чтобы понимали, что их здоровье, полученные умения, знания – это не личное дело, а государственное! Здесь зависимость простая: каких парней мы воспитаем, такое будет и государство. И всё, чего они добьются, – это для державы. Вот когда они поймут разницу между парнем «своим» и «нашим», можно вести речь о воспитании истинного мужчины-патриота.
– Александр Филиппович, какая ваша самая любимая военная песня?
– Очень душевная песня на стихи Алексея Фатьянова «Давно мы дома не были». Простыми проникновенными словами там говорится о тоске солдата по родной стороне, о любви... «Горит свечи огарочек, гремит недальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой!» и еще: «Который год красавицы гуляют без ребят. Без нас девчатам кажется, что звезды не горят. Без нас девчатам кажется, что месяц сажей мажется, а звезды не горят...»

– Когда вам перестала сниться война?
– 30 лет службы в армии – с 1944-го по 1975-й – были наполнены разными событиями. Сейчас у меня со сном неважно. Лежу и думаю иной раз, из какого особого сплава созданы были наши солдаты и офицеры, которые с открытыми глазами шли на смерть, идя на таран вражеской техники, преодолевали на танках раскаленную пустыню Гоби во время Маньчжурской операции, закрывали своим телом амбразуры вражеских дзотов. Был, конечно, известный приказ № 227, который называли «Ни шагу назад!», но ведь в таких поступках основа – моральный выбор, готовность к подвигу. Война мне не снится, я о ней размышляю...
– Что беспокоит вас как ветерана, как человека, видевшего войну?
– Страшнее нет того, что сегодня пытаются переписать историю, вытоптать могилы героев. В борьбе с такими «перевертышами» на идеологическом фронте – ни шагу назад.
Фото из архива «ВВ».


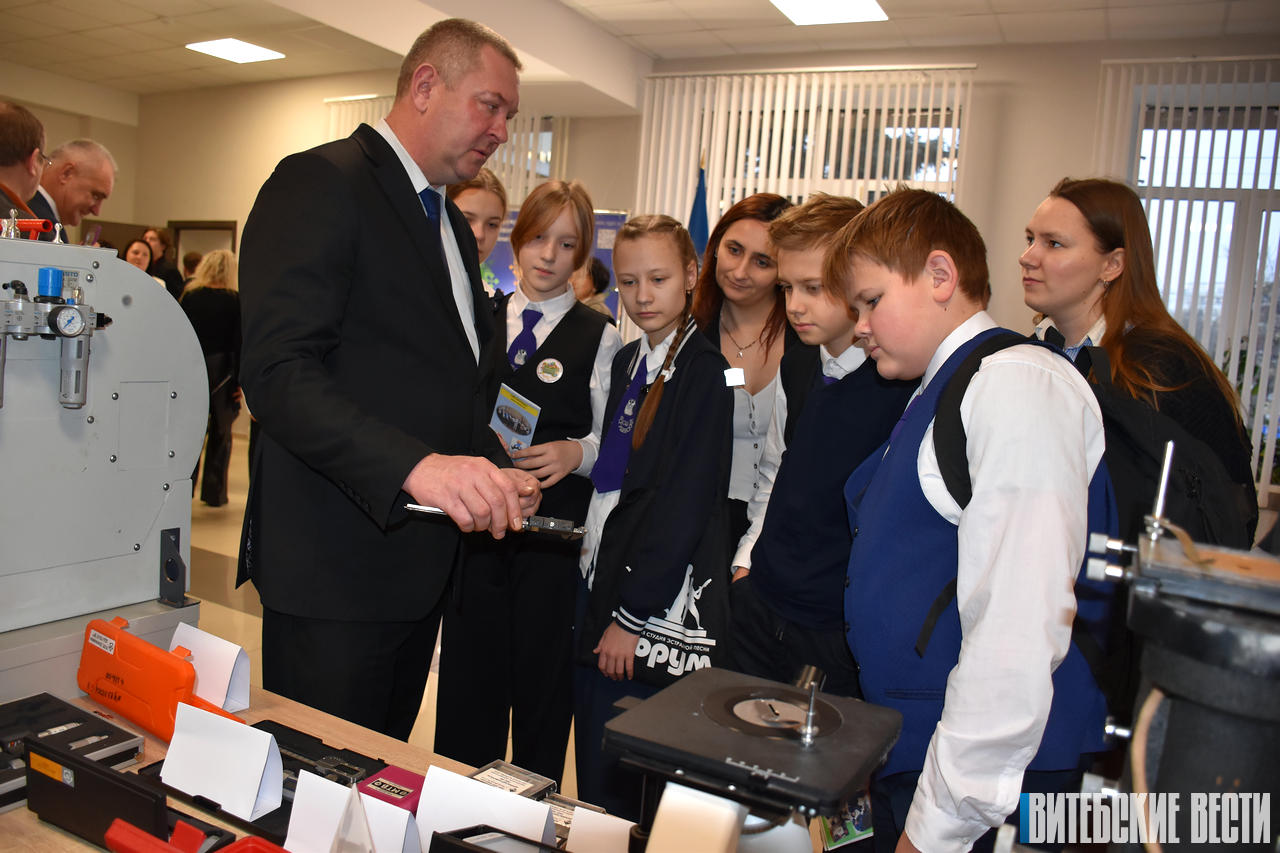


 (2).png)